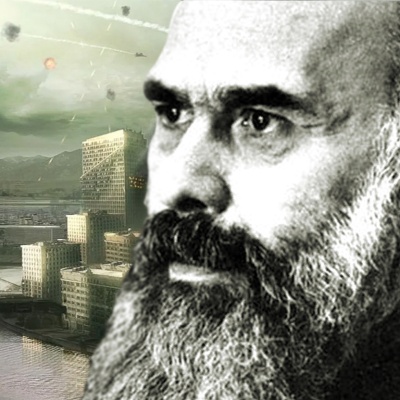
Беседа 9[1]
Предельное испытание
<…> Французский писатель Рабле[2] в одном из своих писем написал: «Я готов отстаивать свои убеждения до самой смерти, исключительно»[3]. Что ж, так поступает большинство из нас. Но это значит, что когда перед нами встает предельное испытание, мы отступаем, мы не готовы идти на предельный риск.
И в этом смысле неминуемая уверенность в смерти, возможность смерти для нас — это своего рода пробный камень для наших убеждений, наших чувств. Я люблю этого человека. Готов ли я рисковать моей жизнью ради его или ее жизни, ради его или ее свободы? Или я готов говорить об этом, пока нет опасности, и отступаю, когда опасность становится слишком велика?
Помню, как кто-то сказал: «Как чудесно слышать так много проповедей о мученичестве в наших храмах. Это значит, что в наши дни нет риска мученичества, потому что никто не говорит о нем, когда оно неминуемо, когда оно реально, когда оно здесь. Человек либо встречает мученичество, либо бежит от него, человек не говорит о нем».
Вот первое, что я хотел сказать о смерти. Противостояние смерти позволяет нам оценить качество нашей жизни: готовы ли мы встретиться с жизнью лицом к лицу – со всеми ее трагедиями, страданием и опасностью? Другая сторона этого размышления о смерти, возможно, становится все важнее с каждым днем.
Мы живем так, будто будем жить вечно и никогда не умрем. Мы живем с представлением, будто впереди есть еще время, а затем приходит момент, когда времени уже не осталось, а наша жизнь оказывается неполной, несовершенной, поскольку мы никогда не посмотрели в лицо факту, что в моей власти только настоящий момент, не следующий. <…>
Здесь, в Англии, отношение к смерти очень удивляет русского человека вроде меня. Оно несколько улучшилось, осмелюсь сказать, не сильно, но стало, скажем, менее ужасным. Но когда я впервые с ним встретился, я был поражен. У меня создалось впечатление, что для доброго британца умереть было чем-то совершенно непристойным, что людям не следует так поступать со своими друзьями и родственниками, и, если они падут настолько низко, чтобы покинуть этот мир, они будут скрыты в своей комнате, пока похоронное бюро не вывезет их [на место упокоения] и не освободит семью от их присутствия, потому что по отношению к своим родным человек не должен совершать такую непристойную вещь, как умереть.
Я помню, как впервые столкнулся с этой проблемой смерти. Я проповедовал в Кембридже в университетской церкви, а потом университетский капеллан сказал мне: «Знаете, я священник уже тридцать лет, но никогда не видел мертвого тела и не присутствовал при умирании человека».
Я был поражен, потому что сам видел более чем достаточно умирающих и мертвых. И я сказал: «Каким образом?» — «Ну, — ответил он, — видите ли, когда кто-то из моих прихожан болен, до тех пор, пока я могу ему помочь, я посещаю его. Когда он впадает в беспамятство и я не могу достучаться до него, я предоставляю действовать доктору, сиделке, родственникам, друзьям, ведь сам я ничего не могу сделать. А затем, — продолжал он, — когда он умирает, нет смысла идти смотреть на мертвеца, я беседую с семьей, понесшей тяжкую утрату: «Я Воскресение и Жизнь»[4] и тому подобное. А затем я встречаю гроб в церкви».
Меня это глубоко поразило, и я рассказал ему о том, что сам испытал во время войны. В наш госпиталь принесли немецкого солдата с поля боя, через несколько часов он впал в беспамятство, и молодой пресвитерианский пастор-француз, который заботился о нем, вышел (он был очень молод, слегка за двадцать).
По лицу его струились слезы, и он сказал мне: «Какой ужас! Этот человек не умер, он еще жив, и я ничего не могу сделать для него, потому что он не может ответить на мои слова и, возможно, даже не слышит, что я говорю». Мне также было тогда около двадцати пяти лет, и я сказал довольно резко: «Не дури, иди обратно к постели этого человека, возьми Новый Завет и читай ему его по-немецки, начиная с воскрешения Лазаря. Читай и читай, делай паузы, чтобы вы оба отдохнули, и вновь читай».
И этот молодой человек делал так в течение двух с половиной дней или около того. А затем, за несколько часов до смерти, этот немецкий солдат открыл глаза и сказал мне: «Это было так чудесно. Я не мог подать признаков жизни, но каждое слово достигало меня и давало новую жизнь».
Так что мы должны осознавать, будь мы священниками, врачами, или медсестрами, или родственниками, или друзьями человека, который умирает, сознание которого слабеет, который, возможно, не способен общаться с нами обычным образом, — мы должны осознавать, что может существовать уровень сознания, лежащий далеко за пределами того, что мы себе представляем. И даже когда сознание, которое мы можем пробудить словами, ушло, существуют иные способы общения. <…>
В экстремальных ситуациях мы можем встретиться лицом к лицу со смертью совершенно иначе. Страх может быть преодолен силой сострадания или неотвратимостью участия в происходящем. Я в течение года преподавал в русской гимназии во Франции и помню одну из своих учениц. Она была самой обыкновенной девочкой, милой, умненькой девочкой, но в ней не было ничего особенно впечатляющего.
А потом во время одного из налетов в Париже бомба упала на дом, где они жили. Все спаслись, стояли снаружи, пересчитали друг друга и заметили, что одна пожилая женщина не вышла из дома. Дом был весь в огне, и девочка просто вошла внутрь, чтобы спасти эту женщину, и уже не вернулась назад.
Чувство сострадания, говорившее, что этой старушке нельзя было просто позволить умереть, заставило ее забыть опасность, которую эта ситуация представляла для нее самой, и она просто вошла внутрь. Очень часто мы можем лицом к лицу встретить смерть свою или других людей, если в нас живут побуждения достаточно сильные, достаточно благородные, достаточно великие, достойные нашего человеческого звания, вместо того чтобы пасть ниже того, кто мы есть.
Когда мы стареем, проблема становится немного иной. Я не могу сказать, что это мой личный опыт, хотя я и достаточно стар, но я заметил, что пожилого или безнадежно больного человека более всего пугает то, что они ощущают присутствие смерти задолго до того, как она наступает. Мы ощущаем, как наше тело постепенно распадается, разрушается, например, память слабеет, разум не имеет былой ясности, эмоции менее яркие, физически человек становится все менее сильным.
Пожилые люди и безнадежные больные очень часто чувствуют, что смерть действует внутри них, что смерть постепенно побеждает и что конечным результатом будет полный распад и разрушение той целостности, которая бывает так прекрасна. Все это может вызвать страх. <…>
Из ответов на вопросы
— Нужно ли человеку до последнего бороться за свою жизнь, или наступает момент, когда можно желать для себя смерти?
— Нам порой кажется, что у нас есть право сказать: «Я устал от жизни, и я выбираю смерть». Мы не знаем, что может произойти в нас и привести нас к такой зрелости, какой у нас не было или нет в данный момент. Страдание, встреча со смертью, расставание с людьми, которых мы любим, встреча с болью, встреча со всей многосложностью человеческой души — всего этого мы не можем предвидеть.
С другой стороны, меня до глубины души поражает то, что умирающие старики очень часто говорят: «Я бы хотел умереть и не быть обузой тем, кто меня окружает». И я всегда с искренней убежденностью говорил им, что они не правы, что они недооценивают любовь окружающих к ним, что присутствие их даже умирающих много значит для тех, кто вокруг, что их беспомощность, возможно, впервые дает их детям, их супругам, их друзьям возможность выразить всю свою любовь, все уважение к ним.
Я могу привести вам пример совсем не трагичный. Моя бабушка умерла, когда ей было девяносто пять лет. В последние годы жизни она была не так деятельна, как раньше. Помню, однажды я сидел в своей комнате, а бабушка мыла посуду на кухне, затем я услышал невероятный грохот разбивающейся посуды, и вошла бабушка, маленькая, очень бледная и очень серьезная старушка, и сказала: «Я не могу понять, почему Господь держит меня на земле. Я даже посуду не могу помыть как следует». Я ей ответил: «Я могу привести тебе две причины». — «И какие же?» Я сказал: «Первая – та, что на том свете, должно быть, столько старушек, что Он не может Себе позволить еще одну».
Она строго посмотрела и сказала: «Ты все шутишь, а я серьезно». Я сказал: «Да, а теперь вторая причина: с самого начала мира и до самого его конца, в прошлом, в будущем, в настоящем ты одна смогла сделать то, чего не смог никто на земле». Она навострила уши, посмотрела на меня с интересом и сказала: «И что же это?» — «Никто никогда не был, не будет и не может быть моей бабушкой». И она сказала: «О, так я уникальна и могу делать что-то, чего не может никто на земле».
С другой стороны, если говорить, например, об аппаратах, поддерживающих жизнь, я считаю, что не следует принуждать человека оставаться в живых искусственно, против природы, как происходит в случае, когда природа не может поддерживать жизнь и создается искусственное ее подобие.
Я вспоминаю опять-таки человека, который попал в автокатастрофу и был без сознания четыре года, абсолютно без сознания, не реагируя ни на что, но будучи принуждаем жить, пока наконец природа не взяла верх над докторами. И я думаю, было бы человечнее дать природе шанс действовать свободно. Но это моя личная реакция на ситуацию.
— Значит ли это, что Вы против вмешательства врачей и искусственного продления жизни умирающего?
— Я бы подвел черту под тем, что говорил минуту назад, о том, что, когда от человека не осталось ничего, кроме искусственной жизни, которая навязывается ему или ей, мы не помогаем природе, мы не знаем ничего о том, что происходит с душой, мы используем человеческое тело как марионетку, и я не считаю, что это достаточно уважительно, почтительно в отношении этого человека.
В иных случаях, безусловно, необходимо оперировать опухоли, необходимо оперировать при аппендиците, необходимо лечить пневмонию и так далее. Но, когда мы делаем это, мы помогаем природе в борьбе, тогда как в случае, упомянутом мною ранее, мы помогаем в борьбе вовсе не природе, природа жаждет покоя и отдыха, а мы насилуем ее.
Я помню книгу Акселя Мунте под названием «Легенда о Сан-Микеле» [5] (не думаю, что вы такое читаете, но в мою бытность студентом-медиком ее многие читали). Я работал в той же больнице, где работал он за много лет до меня (ну, не так уж много – я был там в 1934 году). И я помню, что он говорит о своем опыте работы в терапевтическом отделении. Он рассказывает, что, когда он впервые попал туда, то пришел в ужас от того, что он посчитал бессердечием старых медсестер и бесчувственным отношением к жизни и смерти со стороны врачей. А потом он осознал, что, пока человек мог бороться за жизнь, врачи и медсестры боролись со всеми своими знаниями, умением и страстью.
Но приходил момент, когда они понимали, что все, что они могут — это оставить человека и не помогать жизни продолжать битву. Я вспоминаю фразу, сказанную пожилой медсестрой, определяющую, по мнению Мунте, отношение медсестер и врачей: «Мы сражались, как два честных соперника, теперь пришла твоя очередь, делай свою работу, но делай ее с лаской». И в этот момент роль врача — помочь смерти быть ласковой, не превращать ее в последнюю мучительную схватку.
Книга подготовлена совместно с фондом «Духовное наследие митрополита Антония Сурожского»
[1] Фрагмент лекции на заседании Лондонской медицинской группы. 4 апреля 1987 г. Пер. с англ. Анны Мартыновой под ред. Е.Л. Майданович. Впервые опубликовано под заголовком «Помни час смертный» в книге: Антоний, митрополит Сурожский. У постели больного. М.: Фонд «Духовное наследие митрополита Антония Сурожского», Фонд помощи хосписам «Вера», 2016. 40 с.
[2] Франсуа Рабле (1494 — 1553) — один из крупнейших французских писателей эпохи Ренессанса, наиболее известен как автор романа «Гаргантюа и Пантагрюэль».
[3] То есть «только до угрозы смерти».
[4] Капеллан цитировал слова Христа: Я есмь Воскресение и Жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет (Ин. 11:25).
[5] Аксель Мунте. Легенда о Сан-Микеле. Записки врача и мистика.
Источник: https://www.pravmir.ru/mitropolit-antoniy-surozhskiy-myi-zhivem-tak-budto-nikogda-ne-umrem/


